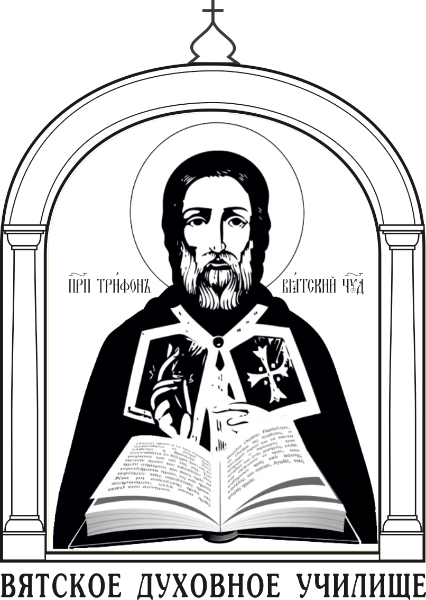Сведения об образовательной организации
Имеют ли душу животные и некрещёные младенцы? Как герой повести Н. Г. Помяловского стал свидетелем создания мифа
01.12.2012
Имеют ли душу животные и некрещёные младенцы? Как герой повести Н. Г. Помяловского стал свидетелем создания мифа 01.12.2012 16:50Опубликовано: Человек. 2010. № 5. С. 122–131. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русская литература, мифология, славяне, покойники, душа, погребение, дети. Russian literature, mythology, Slavs, dead men, soul, burial, children. Судьба и интересы. «Соборный священник сжал свою окладистую сивую бороду в кулак, прошёл по ней до самого конца и сказал, упирая на “о”: – Из духовных были также почтенные писатели: Левитов, Лесков, Помяловский. Особенно последний» (А.И. Куприн. Чёрная молния, 1913). Николай Герасимович Помяловский (1835–1863) родился в семье петербургского дьякона. В восьмилетнем возрасте его зачислили в Александро-Невское духовное училище (иначе говоря, в бурсу). Там он постепенно превратился в матёрого, закалённого суровой жизнью бурсака, которого оставляли на второй год за дерзость и неуспеваемость да секли, как сам он вспоминал, чуть ли не четыре сотни раз. После восьми лет такого учения он перешёл в семинарию. И педагогические приёмы, и нравы там были немногим лучше. Помяловский же оказался умным и даровитым. Вместе с некоторыми сотоварищами он, будучи в старшем классе, стал выпускать рукописный журнал «Семинарский листок», в котором, по его намерениям, должен был выявиться идеал семинариста. Привычка к типичному для бурсаков разгулу сказалась и на этом благородном начинании: публицисты-старшекурсники стали собираться по ночам – устраивали танцы и театральные представления, переходившие в пьяные оргии. Когда начальство обо всём узнало, нескольких самых активных участников таких творческих вечеров исключили из семинарии. Помяловского не выгнали. Он закончил-таки семинарию, хотя и с плохими оценками. Человек пытливый, увлечённый, ищущий, он задавался вечными вопросами, уже после семинарии активно занимался самообразованием, много читал, вольнослушателем посещал лекции в Университете. Одно время преподавал в воскресной школе и в Смольном институте. Большое влияние оказали на него статьи Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Рано стал писать и сам. В 1861 г. в знаменитом тогда журнале демократического направления «Современник» были опубликованы его повести «Мещанское счастье» и «Молотов». А затем пристрастное внимание читающей публики стали привлекать выходившие один за другим «Очерки бурсы». Ещё Помяловский успел написать несколько рассказов, а также очерков на педагогические темы. Под конец своей короткой жизни он нигде не служил, вёл сумбурную жизнь профессионального литератора из разночинцев и пьянствовал. «Нерешённый и притом философский вопрос». Уже в том ученическом, самиздатском «Семинарском листке» Помяловский поместил несколько научно-нравственных рассуждений. Известно, что одно из них называлось так: «Попытка решить нерешённый и притом философский вопрос: имеют ли животные душу?» Вот что жгуче интересовало начинающего писателя, педагога, публициста, несостоявшегося священника. Простой народ в тогдашней России отказывал животным в праве на душу. Говорили, что у них вместо души – пар. Крестьяне Владимирской губернии на рубеже XIX–XX вв. знали, что из всех зверей только у медведя душа имеется, и считали, что туман происходит от зарытых в землю животных. Впрочем, владимирские мужики полагали также, что людские души бывают мужскими и женскими, а «у бабы не душа, а голик».[1] А.И. Куприн в рассказе «Лесная глушь» (1898) передавал разговоры полесских крестьян. Один сказал, что хоть мужчины («чоловики») пьют да ругаются, а при случае и воруют, но всё же Бога не забывают – не то, что баба: «Або она что понимает? Або она что чувствует?». «Это ты правильно, – поддакнул сотский. – У бабы заместо души пар, як у собаци». Преподавательница Саратовского университета Т.Н. Медведева в 1999 г. записала от жившей в Вольском районе Саратовской области старушки-староверки (1912 г. р.) забавную реплику: «Спасибо Владимиру Ильичу Ленину. Он восстановил было жизню. Он сравнял всех – душа есть душа. У мальчика, у девочки».[2] Впрочем, возможно, что старушка имела в виду душевые земельные наделы, слишком вольно толкуя большевистский лозунг «Землю – крестьянам!» Надо иметь в виду, что народная трактовка души была нечёткой, приблизительной, да к тому же заметно варьировалась – по-разному в различных местностях, субэтнических и конфессиональных группах.[3] Православные священники тогда тоже, в общем-то, соглашались, что у бессловесных тварей души нет. А вот, скажем, современный мыслитель, профессор философии христианской религии в Оксфордском университете Ричард Суинбёрн, который в обстоятельной монографии анализировал именно вопрос о душе, считает, что доказательства существования души даже более убедительны, чем доказательства существования Бога. Сам он – сторонник идеи эволюции. По его убеждению, живые существа эволюционно произошли от неживой материи, затем сформировались высшие животные, среди них – обезьяны, а уж от них произошёл человек. А душа есть не только у людей, она и у высших животных имеется! Приверженец теории дуализма, то есть резкого разграничения тела и души, Суинбёрн полагает, что научного объяснения эволюции души не существует (и, может быть, это так и останется неизвестным). Он писал: «Животные сознают свою жизнь – они чувствуют, мыслят, они могут преследовать свои цели, у них есть желания и есть чаяния. И таким образом, у животных имеются души. Но есть различия между осознанием жизни у животных и у людей, а значит, и между свойствами их душ… Два таких различия вполне очевидны. Человеческое мышление – оно сложным образом выстроено, и у него есть логическая структура, которой нет в мышлении животных. И ещё люди используют моральные категории». Кроме того, человеку, в отличие от животного, дана свобода воли.[4] Правда, христианский взгляд на эту проблему, собственно говоря, не обязательно должен исходить из дихотомии «тело – душа». Нередко выстраивали триаду: «тело – душа – дух». Концепция триады наличествует уже у отцов Церкви.[5] А если так, то животные, особенно высшие, тоже могут претендовать на право иметь душу. Однако в XIX в. среди большинства русских людей господствовало убеждение, что у животных души нет или же, по крайней мере, их душа – качественно иная, чем у людей.[6] И почти всеобщая тогда вера в бессмертие души человеческой укрепляла наивно-религиозную иерархию живых существ, в которой животные считались заведомо низшими тварями. Никакого «зелёного» экологизма и даже особенной любви к животным тогда ещё не было (по крайней мере, в России). Животные, что были даны Богом на потребу человеку, использовались человеком потребительски – будь то кормилица семьи корова, или лошадь, без которой крестьянину как без рук, либо охотничья собака, вообще-то высоко ценимая, но не слишком любимая, и уж тем более кошка, которая была в ту пору для «кошечников» и «кошкодёров» чуть ли не промысловым зверьком.[7] Егор Молотов обнаруживает могилки и беседует с бабой-мистиком. Главный герой повести Помяловского «Мещанское счастье» – молодой разночинец, выпускник Университета Егор Молотов. Автор явно рисовал его с себя самого, разве что избавил от некоторых собственных неприглядностей. В этой повести есть один интересный эпизод. Как-то раз, гуляя по лесу, Молотов неподалёку от реки наткнулся на две могилы. «Егор Иваныч вышел на лужайку и на ней увидел две небольшие могилки. Это заняло его. “Кто бы тут похоронен был? – думал он. – Как странно – в лесу!” Оглянувшись кругом, он увидел, что его отовсюду окружает лес». Тогда он вышел на дорогу, дождался проходящих баб и обратился с вопросом к старшей из них. Та отвечала, что «это Мироновы детки… двое померло…» И добавила: «А некрещёны померли». Молотов не понимал. Тогда она стала объяснять: «Известно, некрещёное дитя да померло – это всё одно что дерево. Где ни закопай, всё равно… В нём и духу нет… это уж такой человек… без духу он родится… пар в нём… Этаконького и не окрестишь, так и помрёт… бог не попустит, нет…». Молотов спросил, откуда она взяла, что в некрещёном ребёнке духу нет. Баба размышляла вслух: «А чего ж христианское дитя да без крещения помирает? разве можно? – не можно… Иной и вовсе мёртвенький родится… у этого и пару нет… Некрещёное дитя, так, знать, и родится не святое дитя». Кажется, он не всё понял, но очень заинтересовался и самим этим случаем, и рассуждением пожилой крестьянки: «Подивился Молотов бабьему смыслу». «Ещё более подивился Молотов бабьему смыслу, когда после оказалось, что поверье о некрещёных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно. Ему попалась баба-поэт, баба-мистик. Может быть, ей самой до сих пор не приходилось объяснять себе непонятную для неё судьбу некоторых детей, и вот, лишь только пришёл ей в голову вопрос о детях, она, не желая оставаться долго в недоумении, сразу при помощи своего вдохновения миновала все противоречия и мгновенно создала миф. И очень может быть, что этот миф перейдёт к её детям, внукам, переползёт в другие семьи, к соседям и знакомым, и чрез тридцать – сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасает предрассудки, они и ещё и ныне создаются. Удивительно то чувство, с которым простолюдин относится к природе: оно непосредственно и создаёт миф мгновенно». Поэтические воззрения на природу. В общем, странные могилки в лесу оказались связанными с поверьями о душах некрещёных младенцев и с простонародными обрядами – где и как следует таких хоронить. Ребёнок, душа, погребение… Казалось бы, причём здесь природа? А ведь под конец этого отрывка говорится об отношении простолюдина «к природе»: дескать, именно это удивительное его чувство – так «непосредственно» и оттого оно «создаёт миф мгновенно». Когда Помяловский мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, увязывает народные поверья и обряды с отношением «к природе», то очевидно, что он следует отголоскам модной тогда «мифологической» теории в фольклористике. Она появилась в Германии в первой половине XIX в. Согласно этой теории, миф – грандиозное создание «народного духа» и «народной поэзии». В такой трактовке мифология, по сути, не отличалась от «народной поэзии», то есть фольклора. А фольклор толковался только как народное творчество – причём, так сказать, поэтическое. Ключевое понятие «народ» понималось в самом обобщённом, романтическом, возвышенном, идеализированном смысле. В таком вот народе и в творениях его баснословия воплощался некий улавливаемый чуткими натурами «народный дух». Когда же учёные брались толковать, комментировать, исследовать миф, то они исходили из убеждения, что в основе его лежит обожествление природы. Народная фантазия, дескать, использовала применительно к явлениям природы поэтические метафоры – вот так и формировались мифологические сюжеты. В общем, поэтическое восприятие природы, выраженное в метафорах, – оно-то и создавало миф. Значит, за деяниями языческих богов и подвигами мифических героев кроются солнечные затмения, грозы и бури, чередование времён года, разливы рек и т. п. Крупнейшим в России последователем германской «мифологической» теории был Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871). Изучая народнопоэтическое, мифологическое творчество славян, он написал трёхтомник с показательным названием «Поэтические воззрения славян на природу». Этот огромный и до сих пор значимый труд вышел в 1866–1869 гг.[8] В нём рассматривались самые разные стороны древней религии и мифологии, а ключевое для «мифологической» теории слово «природа» фигурировало прямо в заголовке.[9] Правда, публикация трёхтомника Афанасьева пришлась уже на время после смерти Помяловского. Но тут следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, сам Афанасьев брал себе за образец немецкие труды, вместе с методами исследования и с терминологией. Все эти наши «поэтические воззрения», «воззрения на природу», «мифические сказания» и т. п. – кальки с немецкого. В немецкой же науке такие термины применялись гораздо раньше. Заглавие труда Афанасьева, по сути, воспроизводит название сочинения знаменитого немецкого учёного Вильгельма Шварца (1821–1899), первый том которого вышел за несколько лет до того, в 1864 г. – «Поэтические воззрения на природу, в их отношении к мифологии, у греков, римлян и германцев».[10] Во-вторых, на рубеже 1840–1850 гг., ещё до издания своего трёхтомника, Афанасьев опубликовал множество статей о «народной поэзии» в журнале «Современник» – том самом, который в начале 1860-х гг. печатал Помяловского. Так что Помяловский, безусловно, уже мог воспринять ключевые термины и основные принципы этой вот, новомодной, передовой для того времени, теории мифа. Но только если, действительно, много читал. И если следил не только за беллетристикой, но и за научными, научно-популярными, критическими статьями, если к тому же листал серьёзные иностранные книги по религии и мифологии. Дети как нечисть. Герой повести, подобно самому Помяловскому, задавался теми же вопросами – у кого есть душа, у кого нет. И вот перед нами случай столкновения человека городского и образованного, читающего и размышляющего, с наивно-суеверными людьми традиционного общества. Вообще-то у восточных славян и у некоторых иных народов в России и за рубежом это было глубоко укоренённое и повсеместно распространённое представление: дескать, дети рождались не совсем человеками. Они, появлявшиеся из «иного мира», считались «нечистыми» и только постепенно, со временем, всё больше «очеловечивались». Важнейшим было таинство крещения и связанное с ним наделение христианским именем. Говорили даже, что до крещения и семейного празднования в честь этого (до крестин) души у ребёнка нет, только один «пар».[11] Умершего некрещёным и на кладбище обычно не хоронили. Если же ребёнок рождался хилым и была большая опасность, что он умрёт, то иной раз сама бабка-повитуха на свой лад «крестила» его. А посмертная судьба некрещёных младенцев была плачевной: они становились неупокоенными мертвецами и вредили людям.[12] Так что, по народным поверьям, даже у человека-то душа не всегда обнаруживалась с самого его появления на свет. В одних местах считали, что душа проявляет себя уже первыми толчками ребёнка в утробе матери, а в иных краях указывали на крещение либо крестины. Обычного младенчика – окрещённого и наделённого христианским именем – у добрых, православных людей было принято считать безгрешным, невинным, ангелоподобным. Так либо иначе, бесёнок он или ангелочек, – младенец воспринимался «гостем», явленным из «иного мира» в наш. Некрещёные и мёртворождённые дети, по народным представлениям, бывали сходны с иными категориями зловредных мертвецов – с теми, которые погибли, так сказать, неестественной смертью, не прожив всего отпущенного им срока. Это убитые, самоубийцы, утопленники, опойцы (сгинувшие от неумеренного пития) и т. п. Таких нельзя было хоронить на освящённой земле христианского кладбища. Их закапывали или даже просто клали на поверхность земли, закидывая ветвями, где-нибудь в дальнем, глухом месте – в чащобе, в овраге, на болоте, на распутье. Самый известный в XX в. специалист по народной традиции восточных славян, уроженец Вятского края Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) в своей опубликованной в 1916 г. монографии предложил называть весь обширный состав таких вредоносных мертвецов диалектным вятским словом «заложные» (их надо было прикрыть, «заложить» ветвями). Согласно его исследованию, такой вид низших мифологических персонажей, как русалки, восходит к представлению о «заложных» покойниках.[13] Хотя бывали и другие, специальные разновидности зловредной нечисти. Кое-где рассказывали об игошах – мифологических уродцах-проказниках в виде безрукого, безногого младенца, что обитали прямо в домах, наподобие домовых и кикимор. Про таких знали, что они происходят от мёртворождённых да от детей, умерших некрещёными. На Русском Севере и в Вятском крае верили в ичетиков – маленьких водяных существ, которые были душами утопленных своими матерями младенцев. А к недоношенным относились сурово: их просто укладывали в тёплое место, на печь, и почти никак за ними не ухаживали. Если такие младенцы всё же выживали, то вот когда они, наконец, достигали положенного срока, тогда только о них начинали заботиться, как о нормальных детях. В Полесье считалось, что и выкидыши тоже должны «дозреть» – их не закапывали в землю, а оставляли «доспевать» под кучей ветвей и бурелома.[14] Известный литератор В.И. Немирович-Данченко, ездивший по Уралу в 1875–1876 гг., рассказывал о старателях-одиночках, которые в поисках золота уходили в лесную глушь и жили там – бедствовали, часто голодали, погибали. Это были не только мужчины, но и женщины. Он писал: «Бабам, разумеется, приходится ещё тяжелее, ещё невыносимее. Баба дичает скоро, часто даже с ума сходит. – Лес-то не дюже стрёмен, – говорила одна, – лесовики вот пужают, по вечерам особенно… Гу-гу-гу пойдёт по лесу – это он то ходит… А то словно дитё малое заплачет где – это непременно младенец, который помер некрещёный».[15] В Полесье же дети мёртворождённые и умершие до крещения, а также выкидыши и дети, погубленные своими матерями, представлялись особыми мифологическими существами, которые не могли упокоиться на «том свете». По заключению Е. Е. Левкиевской, полесские представления о них весьма архаичны: «они не обладают сколько-нибудь заметными вредоносными функциями и принадлежат скорее к классу “душ”, чем к классу демонов». Такие души, в отличие от умерших крещёными, не могут попасть в рай и обрести покой. Они маются, страдают от своей «нечистоты», носятся в воздухе, блуждают возле тех мест, где их закопали.[16] Подытоживая, можно заметить, что по мере взросления дети всё более и более «очеловечивались». Самыми опасными для окружающих выходцами из «иного мира» считались мёртворождённые и недоношенные. Несколько лучше относились к вовремя и благополучно появившимся на свет совсем маленьким детишкам, ещё не получившим крещения и имени.[17] Однако применительно даже к выжившим и подросшим детям в народной речи использовались такие слова, прозвища, ругательства, которые соотносили их с «нечистью». И вообще детвора да подростки нередко уподоблялись нечистой силе.[18] Скажем, в говоре жителей южной части Вятской губернии, уржумских крестьян, было выражение «станица некрешшоная», которым, по толкованию В. К. Магницкого, обзывали детей.[19] Неудача собирателя. Герой Помяловского предпринял собственное фольклорно-этнографическое расследование и обнаружил, что «поверье о некрещёных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно». Это странно. Представления о «нечистоте» и опасности мёртворождённых либо умерших до крещения младенцев укоренены и повсеместны. Они имеются у всех славян, да и у тех народов европейской России, которые соседствовали с русскими. В общем, если семейство Мирона, в котором родились и сразу же «померли» эти «некрещёные детки», закопало их в чаще леса у реки, то оно, это семейство, действовало в полном соответствии с устойчивой народной традицией. Да и баба, косноязычно разъяснявшая молодому барину, отчего дети были погребены в лесу, не могла сама «сочинить» миф. Насколько мы можем судить по переданным в повести словам бабы, она толковала вполне в духе обычных народных представлений о некрещёных и мёртворождённых младенцах: мол, души в некрещёном нет, один пар, а уж коли мёртвый родится, то и пара нет. Вот разве что рассуждала она фаталистично: если ребёнок сразу умер, ещё до того, как его успели окрестить, то значит, он и должен был сгинуть таким – не вполне вочеловечившимся. Бог бы не попустил умереть крещёному. Но и фатализм этот вполне соответствует народным представлениям о судьбе, доле, жизненной предопределённости. У писателя А.В. Амфитеатрова есть небольшая новелла «Острожная сказка» (1902). Печатал он её с пометой: «Записана в Минусинске от крестьянина из ссыльно-поселенцев, бывшего сахалинца». Грешил, дескать, беспутный парень с генеральской дочерью, и она втайне родила одну за другой трёх дочерей. «И, как родит, сейчас же парень уносил дитя за город на мусорные пустыри и свёртывал ему голову, а барышне говорил, будто отдал к своей тётке питать молоком на рожке». Узнав правду, генеральская дочь в уме помешалась и задавилась петлёю. А парень женился на молодой вдове-дворничихе, и та родила ему трёх дочерей. Но каждая умирала неведомо от чего ещё до крещения. «В третий раз сделалась дворничиха тяжёлою, опять родила девочку, и опять дитя умерло в скорых часах, так что не успели окрестить. Заговорили о дворнике с дворничихою нехорошо в околотке, что, верно, надо быть, лежит на них смертный грех: всем видимо дело, как Бог наказывает – неведомо чем дети мрут, – даже не допускает принять крещение». Ну, а дальше выясняется, что каждый раз после родов, когда муж бывал в отлучке, дворничихе являлась во сне некая женщина и говорила: мол, девочка-то – моя дочь. Муж тогда начал попрекать жену: видать, грех на тебе какой… Несчастная мать, оправдываясь, рассказала ему о привидении. Она даже удавиться собиралась, но тут постучали в окошко: мужа нашли в овраге, он горло себе перерезал. В общем, если есть на человеке смертный грех – убийство только что рождённых младенцев, во грехе и прижитых, – то и дальше всё предопределено: законные его дети – не жильцы на Божьем свете, да и сам он себя порешит, в ад пойдёт. …Складывается впечатление, что герой Помяловского плохо искал. Недаром ничего не сказано о том, как же этот собиратель народных поверий действовал – как и с кем именно он общался, формулировал вопросы, пытался ли через некоторое время вновь заговаривать с теми же крестьянами. А мужики да бабы воспринимали его, ясное дело, как чужого барина, который зачем-то выясняет что-то про мёртвые тела. Как надлежит поступать с мёртвыми телами – это вообще была неудобная тема для досужего разговора: приходской священник не одобрил бы закапывания покойников в лесу, а полицейский чиновник, узнав про мертвеца, тоже мог бы привязаться – заведёт дело, потащит в кутузку. Сколь тягостным для крестьян бывало полицейское разбирательство в таком случае, хорошо известно и неоднократно засвидетельствовано в русской литературе XIX в. Недаром мужики, обнаружив рядом с деревней труп какого-нибудь бродяги, оттаскивали его куда-нибудь подальше, с глаз долой, да всем односельчанам велели помалкивать. Иначе наедут, начнут допрашивать, а ты их ещё и корми, а то и деньгами ублажай!.. Вот как у Н.А. Некрасова в стихотворении «Похороны» (1861): «Суд приехал… допросы… – тошнёхонько! // Догадались деньжонок собрать; // Осмотрел его лекарь скорёхонько // И велел где-нибудь закопать». «Суд» – это на самом деле, конечно, полицейские; «где-нибудь» и не «похоронить», а «закопать» – это оттого, что «застрелился чужой человек», и пришлось грешника-самоубийцу погребать «под большими плакучими ивами…», «Без церковного пенья, без ладана, // Без всего, чем могила крепка… // Без попов!..». Выдумать или выявить? В общем, то, что поведала Егору Молотову «баба-поэт, баба-мистик», – не ею придумано. Конечно, она говорила сбивчиво, косноязычно – вот у него и могло сложиться впечатление, будто это она на ходу сочиняет. Причём сочиняет «миф» – так решил Егор. Да, простая деревенская баба, что встретилась Егору на дороге, – она, конечно, не оратор. И не учёный-этнограф, чтобы растолковать всё по науке и в подробностях. Это сам Егор (и стоящий за ним автор – Помяловский) постарался уразуметь её слова, опираясь на своё фоновое знание – на впечатления от работ, пересказывавших идеи «мифологической» теории. Народ как творец «поэтических сказаний», народ-мифотворец – это вполне в духе тогдашнего народоведения. Современные же учёные, исследующие народную культуру, согласны с тем, что мифологические либо мифологизированные представления могут до поры до времени пребывать в подспудном, скрытом, неосознаваемом виде. Они выявляются, оформляясь словесно и развёрнуто (как быличка, бывальщина, поверье, примета и т. п.), в частности, именно тогда, когда собиратель начинает беседу на эту тему, задаёт свой вопрос. Тогда сторонний человек, не специалист, может даже принять такой рассказ за некую импровизацию или же за «создание мифа». В общем-то это и есть импровизация. Но в условиях традиционной культуры по ходу такого, почти импровизационного, рождающегося здесь и сейчас, рассказа-размышления способно выявиться только то, что соответствует глубинным основам народного мировосприятия. Миф вообще не «создают» и не «выдумывают». Миф медленно вызревает в потаённых глубинах общественного сознания и подсознания, вбирая в себя прежде всего обрядовые впечатления, предписания, пояснения. Именно так: в его основе не столько метафоры и эмоции, вызванные природными явлениями, сколько обряды и ритуальные ситуации. А то, что спрашивающий самим своим вопросом побуждает к оформлению, конкретизации, выражению мифологических представлений, – это верно. Тем осторожнее надо быть собирателю, чтобы не навязать невольно информанту свою систему координат и не предопределить ответ. Особенно когда отвечающий, беседуя с заезжим горожанином, ведёт себя по-деревенски деликатно, искренне готов ему помочь и с ним во всём согласиться. Народный миф. Пример из повести Помяловского «Мещанское счастье» показывает, что городской интеллигент-разночинец в начале 1860-х гг. воспринимал свой народ как-то смутно да притом, по сути, романтично. И это не его вина – даже тогдашнее народоведение, которое герою повести явно было не чуждо, тоже толковало народную культуру, как мы сейчас понимаем, весьма и весьма приблизительно. А ведь искренний интерес к своему народу, стремление помочь ему – всё это уже тогда появлялось и увлекало многие тысячи честных людей. Однако и те решительные люди, кто «пошёл в народ» ради политической агитации, призывая к революции, и те, кто всего лишь мечтал о крестьянской общине как ячейке социализма, и те, кто работал в земских учреждениях, – почти все они, начав близко общаться с реальным народом, испытали разочарование. Простые люди оказались совсем не такими, какими их воображали. Даже идеи о русском народе-богоносце и о всемирной его отзывчивости тоже могли появиться только при таком, идеализированном, оторванном от реалий, восприятии этого самого народа. Вот в рассказе А.И. Куприна «Болото» (1902) студент, помогавший землемеру, бредёт с ним после работы по лесной чащобе и рассуждает вслух: «Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, – говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, и убедительно прижимает руки к груди. – И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревню. Но во всём, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного… Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь… Я и с этим готов согласиться, но, жестоковыйный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения…». Другой рассказ Куприна, «Попрыгунья-стрекоза» (1910), выстроен вокруг прозрения героя – заезжего интеллигента, которому в деревенской школе, в хоре крестьянских детишек, внезапно открылось: «Вот, думал я, стоим мы, малая кучка интеллигентов лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетённым народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия – смешна ему, нелепа и непонятна, как ребёнку. Наша утончённая живопись – для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство – сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-пятницу, и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы. Да. В страшный день ответа, что мы скажем этому ребёнку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: “Я всё пела”. И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: “Так поди же попляши…”». В начале XX в. образованная публика всё ещё во многом находилась под обаянием созданных ею же мифов о народе. Он представлялся то народом праведно-умудрённым, то каким-то исполинским существом, сочетавшим в себе зверя и ребёнка, то просто «самым-самым» – самым угнетённым, загадочным, великим… Только свершившиеся в России одна за другой революции выявили печальную правоту умного Чехова, желчного Бунина и прочих, сравнительно немногих, писателей и мыслителей, кто не разделял увлечения загадочно-романтичной, лубочной «народностью». Но тогда уже было поздно. В. В. Маяковский в написанной во время Гражданской войны поэме «150 000 000» грезил о скором будущем и пророчествовал так: Вместо вер – в душе электричество, пар. По Маяковскому, душа у нового человека ещё на месте. Да только вот веры в ней нет – традиционной веры, религиозной. Взамен того – пар, пронизываемый синими электрическими разрядами. Впечатляющее зрелище. Грядущий голем-терминатор слишком уж схож со зверем, упырём, «заложным» покойником. Правда, это инфернальное существо скоро банализировалось – рассыпалось и обернулось тысячами зощенковских да булгаковских персонажей. [1] Быт великорусских крестьян-землепашцев: описание материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева: (на примере Владимирской губернии) / авт.-сост. Б.М. Фирсов, И.Г. Киселёва. СПб., 1993. С. 120, 144, 145. [2] «Она прихватила старую жизнь…»: (рассказы М.В. Осокиной из саратовского села Самодуровка) / публ. Т.Н. Медведевой // Живая старина. 2009. № 4. С. 59. [3] См., например: Толстая С.М. Душа // Славянские древности: этнолингвистический словарь / под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. Т. 1. С. 162–167; Виноградова Л.Н. Материальные и бестелесные формы существования души // Славянские этюды: сб. к юбилею С.М. Толстой / отв. ред. Е.Е. Левкиевская. М., 1999. С. 141–160. [4] Swinburne R. The Evolution of the Soul. Revised edition. Oxford, 1997. P. 203. [5] См., например: Фокин А.Р. Соотношение души и духа в греческой и латинской патристике // Человек. 2009. № 3. С. 82–92. [6] Ср., однако, утверждение С. Смита, изучавшего народные представления о душе в начале XX в. и реакцию простых людей на атеистическую пропаганду большевиков: «Существовали разногласия и по поводу того, обладают ли душой животные, хотя большинство всё же склонялось к мысли, что она у животных есть» (Смит С. Спасение души в Советской России // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64). URL: http:// http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/ss16.html (дата обращения: 11.02.2010). [7] Об отношении к животным в России XIX в. см.: Василевская И.А., Коршунков В.А. Домашние животные у современных горожан (культурно-антропологические аспекты) // Сквозь границы: культурологический альманах / гл. ред. Н.И. Поспелова. Киров, 2007. Вып. 6. С. 112–115; Коршунков В.А. «Битый конь», «проклятая собака» и прочая «жизнь животных»: культурно-антропологические аспекты отношения к домашним животным в недавнем прошлом // Там же. Киров, 2008. Вып. 7. С. 90–101; Его же. Кот, конь, корова: отношение к домашним животным в традиционном обществе // Веси: провинциальный литературно-художественный, историко-краеведческий журнал. Екатеринбург, 2009. № 7–8. С. 52–56. [8] Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М., 1866–1869. Т. 1–3. (Репринт: М., 1994.) См. ещё: Афанасьев А.Н. Происхождение мифа: статьи по фольклору, этнографии, мифологии. М., 1996. [9] См. также: Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX в. М., 1997, особенно гл. 2: «Миф и славянская мифология в творческом наследии А.Н. Афанасьева». [10] Schwartz W. Die poetischen Naturanschauungen der Griechen, Römer und Deutschen in ihrer Beziehungen zur Mythologie. Berlin, 1864. Bd. 1: Sonne, Mond und Sterne: ein Beitrag zur Mythologie und Culturgeschichte der Urzeit. [11] Кабакова Г.И. Крестины // Славянские древности / под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 658. См. также: Её же. Крещение // Там же. С. 664–667. [12] Её же. Дети некрещёные // Там же. С. 86–88. [13] Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественною смертью и русалки. М., 1995. Ср. толкования этого слова и комментарии к ним в старых словарях вятского диалекта: «Заложные – покойники, погребённые без отпевания: утопшие, опойцы, удавленники и [т.] д. В г. Уржуме заложные в былые годы погребались в конце нынешней Полстоваловской улицы, на окраине левого берега речки Шинэрки, где ныне дома Зубаревой и Скопина. По рассказам, на застроенном Скопиным пустыре ранее многим являлась старуха и просила всех встречных отпеть её. В четверг перед Троицей, в Семик, причт Казанской церкви, по пути на кладбище, против угла двора Скопина служит о “заложных” панихиду» (Магницкий В. Особенности русского говора в Уржумском уезде, Вятской губернии: (сборник областных слов и выражений). Казань, 1885. С. 21–22); «Самоубийца, погребённый без отпевания. Заложные погребались прежде на окраинах селений. Ныне в некоторых местностях по “заложным родителям” бывает панихида» (Васнецов Н.М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1907. С. 77). См. ещё: Левкиевская Е.Е. Покойник «заложный» // Славянские древности / под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2009. Т. 4. С. 118–124; Её же. Самоубийца // Там же. С. 538–541. [14] См., например: Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: иллюстрированный словарь. СПб., 1995. С. 166, 168; Русский демонологический словарь / авт.-сост. Т.А. Новичкова. СПб., 1995. С. 207–208; Журавлёв А.Ф. Из мелкой сволочи (русское демонологическое название игоша) // Славянские этюды. С. 203–206; Левкиевская Е.Е. Полесские поверья о некрещёных детях // Живая старина. 2009. № 4. С. 10. [15] Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал: (очерки и впечатления). СПб., [1904]. [Ч. 2:] Урал. С. 304. [16] Левкиевская Е.Е. Полесские поверья… С. 7–10. [17] О том, что отсутствие имени придавало малым детям демонические черты, см.: Толстая С.М. Имя // Славянские древности. Т. 2. С. 408–409; Толстой Н.И., Толстая С.М. Имя в контексте народной культуры // Язык о языке: сб. ст. / под общ. рук. и ред. Н.Д. Арутюновой. М., 2000. С. 599–601. [18] Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 178–184; Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 41–59, 95; Коршунков В.А. Игровое поведение детей и молодежи в контексте традиционной народной культуры // Игровое пространство культуры: материалы форума. 16 апреля – 19 апреля 2002 г. / гл. ред. В.В. Чубарь. СПб., 2002. С. 151–152; Его же. Детско-молодёжная игра в традиционной культуре // Сквозь границы. Киров, 2005. Вып. 4. С. 112–114. Смысловой анализ простонародных бранных обозначений шаловливых детей см. в работе А.Б. Мороза (Мороз А.Б. «Чтоб тя лихая немочь изняла!» // Русская речь. 2000. № 1. С. 89–94). См. также: Баранов Д.А. «Незнакомые» дети (к характеристике образа новорожденного в русской традиционной культуре) // Этнографическое обозрение. 1998. № 4. С. 110–122; Новичкова Т.А. Ангел или бес: образ ребёнка в народных верованиях и мифологических рассказах // Новичкова Т.А. Эпос и миф. СПб., 2001. С. 193–202. [19] Магницкий В. Указ. соч. С. 61. |