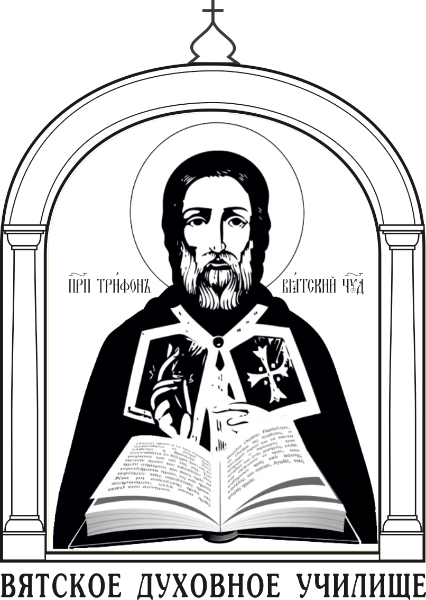Сведения об образовательной организации
Заметки о классических языках в системе духовного и светского образования в России в XVIII – середине XIX века
18.11.2012
Заметки о классических языках в системе духовного и светского образования в России в XVIII – середине XIX века 18.11.2012 20:35
Опубл.: Современный учебник по истории: сб. науч. ст. обл. науч.-практич. конф. Киров, 25 окт. 2012 г. / ред. кол.: В. Т. Юнгблюд [и др.]. Киров: ВятГГУ, 2012. С. 34–47.
В работе рассматриваются некоторые показательные события и факты, относящиеся к роли и значению латинского и древнегреческого языков в России XVIII – середины XIX в., в сфере духовного и светского (гимназического, университетского) образования. В 1721 г. сподвижник Петра I, архиепископ Новгородский, вице-президент Синода, литератор и богослов Феофан Прокопович подготовил «Духовный регламент» – основополагающий документ церковного устройства менявшейся России. Живший в России датский учёный Педер фон Хавен познакомился с Феофаном и характеризовал так: «Во всякого рода учёности он мало имел, если имел вообще, себе равных, особенно среди русского духовенства». По его словам, Феофан знал много иностранных языков, в латыни был «искусен, как наилучший академик», а кроме того «хорошо понимал греческий и древнееврейский и ещё в преклонном возрасте со всем прилежанием занимался ими, а также выказывал большую любовь к тем, кто понимал эти языки и мог их объяснить[1]. Феофан Прокопович был эрудированным богословом и притом не терпел отклонения от правоверия и государственных интересов. Он был непримирим и к тем, кого он считал своими недругами. Этот выдающийся просветитель и государственный деятель вполне подходил для радикальных преобразований в религиозно-просветительской сфере, сама же его деятельность вполне соответствовала устремлениям Петра (а затем и политике правительства царствовавшей в 1730–1740 гг. императрицы Анны Иоанновны). Тогда полностью подчинили Церковь государству, упразднив патриаршество и сделав управляемую Синодом Церковь чем-то вроде министерства религиозно-нравственных дел, и одновременно усиленно искореняли всяческое свободомыслие, «нечестие» и «язычество». Петру «правильная вера» представлялась «более рациональной, лишённой “суеверий”, более учёной, требующей меньшего внешнего благочестия, с духовенством, послушным монарху, пекущимся об “общем благе” и не имеющим собственных экономических интересов и т. д. <…> …Религиозное дисциплинирование слилось с государственным дисциплинированием, или, иными словами, стало лишь религиозным аспектом общего государственного принуждения»[2]. Эти задачи требовали подготовки грамотных и правильно понимавших текущие общественно-государственные задачи священнослужителей. Вот Феофан, в полном согласии с волей Петра, и озаботился созданием системы духовного образования. Основываясь на «Регламенте», возникали духовные академии и семинарии, греко-латинские школы. Классические языки в этих учебных заведениях должны, были, по замыслу Феофана Прокоповича, стать основой всего преподавания. Он наставлял: «Не надобе исперва многих учителей, но первый год довольно единаго или двоих, которые бы учили Грамматике, сиесть, язык правильно знать Латинский, или Греческий, или оба языка»[3]. Появился коллегиум и в Белгороде, вскоре затем переведённый в Харьков. В ученической оде, посвящённой императору Павлу I, так было сказано о преподавании языков в Харьковском коллегиуме: «…И изъясняются языки здесь: славянский, // Латинский, греческий, французский и германский». Из классических языков главным там был латинский. По-латыни в первые десятилетия существования коллегиума даже читались лекции старшим студентам. Да и вообще это был важнейший предмет: из класса в класс переводили по итогам латинского экзамена, а прочие предметы на экзаменах спрашивали очень снисходительно. Один из питомцев Харьковского коллегиума, учившийся там уже в XIX в., вспоминал: «Кто мог отвечать учителю латинской фразой и при этом вёл себя добропорядочно, тот сидел на первой скамье, как прилежный ученик, – а этой чести добивались многие, и оттого у учеников вошло в обычай говорить по латыни и между собою, сперва с примесью русских слов, смотря по тому, какого класса был говоривший; но дойдя до риторического, уже каждый объяснялся свободно, без примеси русских слов. В моей памяти осталась жалоба ученика инфимы… на другого: “Ego став на каменючку; ille пхнув; ego покотывся, caput розбывся, а sanguis в дирочку дзюр-дзюр”».[4] В этой фразе, которая, судя по всему, стала уже почти фольклорной, примечательно смешение латинских слов с явными украинизмами. А «малороссийские» словечки, выражения и сам южный выговор – всё это воспринималось в Российском государстве как досадный налёт провинциальности, от которого получавшему образование человеку лучше избавляться. При Петре I именно латынь стала языком учёности и образования – точно так же, как в католической и протестантской Европе. Однако вера у русских была «греческой», Русь тяготела к Византии, а потому греческий язык и написанные по-гречески богословские книги были образованным русским людям идейно ближе. В результате некоторое время существовала ситуация, при которой можно было ориентироваться на тот или иной классический язык. И это приобретало черты идеологического противостояния – либо грекоязычная ортодоксия, либо весьма учёная, но несколько сомнительная, европейская «латинщина». Уже среди западнорусских богословов XVII в., которые сильно повлияли на учёность, образование и богословие в России, были две группы – грекофильская и латинизирующая. Одни ориентировались на изучение греческого языка и, значит, читали и переводили восточнохристианскую духовную и учительную литературу (включая некоторых античных философов). Другие находились под воздействием западнохристианской, латинской книжности – причём и католической, и протестантской. Аргументы против латыни в качестве учёного языка в восточнославянском мире звучали тогда, к примеру, так: «Отколь безпечнейшая есть речь и увереннейшая философию и теологию славянским языком писати и з грецкого преводити, нежели латинским, который оскудный есть, же так реку до трудных, высоких и богословных речий недоволный и недостаточный». Это из предисловия («предмовы») жившего в XVI–XVII вв. видного православного учёного Захарии Копыстенского к его изданной в Киеве в 1623 г. переводной книге «Беседы Иоанна Златоуста на послание апостола Павла»[5]. Через год Копыстенский станет архимандритом знаменитой Киево-Печёрской лавры – важнейшего центра православной учёности и просвещения тех времён. Примечателен и сам этот письменный язык киевского священства, в котором явственна смесь разговорных русских и украинских слов с церковнославянизмами и полонизмами. Кстати, чтобы цитата была понятна, надо заметить, что слово «речь», под влиянием польского, использовано в значении «дело». Прививка ориентированной на западное богословие учёности воспринималась в России непросто. Русский монах Спиридон Потёмкин – образованный человек, учившийся в польских школах, знавший древние и новые языки – написал в конце 1650-х гг. книгу «Слова на еретики». Тогда как раз начиналась великая трагедия раскола. И старец Спиридон сетовал на то, что русские богослужебные тексты были пересмотрены в свете книг, «полных злых догматов из Рима, Париси и Венеции». А ради «науки грамматики, риторики и философии» русские церковные власти «еллинских учителей возлюбиша паче апостолов Христовых»[6]. Знаменитый киевский митрополит Пётр Могила (1596–1647) –поборник просвещения и апологет православия – в 1631 г. основал в Киеве училище «для преподавания свободных наук на греческом, славянском и латинском языках», позднее называвшееся Киево-Могилянской академией. Выпускники Киево-Могилянской академии становились в петровскую эпоху видными духовными руководителями России. Они были хорошо образованы, а многие из них к тому же вполне лояльны официальному, государственному православию и преданы идеям укрепления монаршей власти. Эти люди поддерживали петровскую политику своеобразного просвещения огромной страны жёсткими мерами – почти насильственным приобщением русских людей к учёности при подавлении малейшего свободомыслия в вопросах вероисповедания. Кстати, в среде питомцев Киево-Могилянской академии был в ходу особый стиль речи. Они предпочитали изъясняться на смеси латыни, польского, церковнославянского, русского и украинского. Филологи именуют такую речь «макаронической». Ещё одним, помимо Феофана Прокоповича, крупнейшим церковным деятелем Петровского времени был Стефан Яворский (1658–1722). Он руководил основанной ещё в 1687 г. в Москве Славяно-греко-латинской академией, с 1700 г. являлся местоблюстителем патриаршего престола, в 1721-м был назначен президентом Синода. А знаменитый церковный писатель, составивший «Минеи-Четьи» – многотомный свод житий святых, митрополит Димитрий Ростовский (1651–1709), который в 1757 г. и сам был канонизирован, основал в Ростове Великом первую в России духовную семинарию с преподаванием греческого и латинского языков. Оба они учились в Киево-Могилянской академии. Известно, что Стефан Яворский в письмах к Димитрию Ростовскому использовал своеобразный киевский школярский жаргон – макароническую речь, изобиловавшую латинизмами. Стефан и некоторые литературные свои сочинения писал на смеси польских и латинских текстов – стихотворных и поэтических. А в руководимой им Славяно-греко-латинской академии он, дескать, вместо «эллинских» учений завёл «латинские», то есть западный метод учёной схоластики и организованные на западный («латинский») лад предметы. Так что в итоге в церковном просвещении победила латинизирующая тенденция. И в России XVIII в. в духовных школах и академиях стала преобладать позднесредневековая схоластическая (то есть буквально: «школьная») латынь, проникнутая протестантским духом. Это означало, что ученики должны были изо всех сил зубрить латынь – их даже разговаривать заставляли по-латыни. А греческая образованность до поры была уделом немногих. Французский литератор и публицист Пьер-Никола Шантро (1741–1808), автор пользовавшегося популярностью на рубеже XVIII–XIX вв. сочинения «Философическое, политическое и литературное путешествие в Россию, совершённое в 1788 и 1789 годах», должен был особо оговорить: «Те люди во Франции, которые полагают, что греческий – это общепринятый язык русских, очень сильно ошибаются, поскольку латинский язык более принят среди них, чем греческий»[7]. Один из исследователей Петровской эпохи отмечал «излишнее увлечение латынью» в тогдашнем духовном образовании, что, в частности, «служило причиною малолюдства школ». Ведь «в школе, где изучался латинский язык, без последнего не могли ступить шагу ни ученики, ни учители»[8]. По словам историка Казанской семинарии, в ней в течение XVIII и начале XIX в. господствовал «киевский, классическо-латинский дух во внутреннем строе преподавания»[9]. А вот как при таком положении дел могло звучать наставление перед экзаменом: «Кто какие аргументы говорил, кто какой именно фундамент подложил своей опугны, как сольвован от дефендента и его учителя всякий аргумент»[10]. Существительные «аргумент» «фундамент» – типичные латинизмы: «argumentum, i n» («повесть, рассказ; содержание, тема; изображение; наглядное доказательство»); «fundamentum, i n» («основание»). Они в XVIII в. звучали непривычно, чересчур учёно и всё же удержались в русской речи, а сейчас уже совершенно обрусели. Нелепая «опугна» – от употреблённого в переносном смысле существительного женского рода «oppugnatio, ōnis f» («штурм, приступ; противоречие, возражение»). У глагола «solvo, ěre» множество значений; главные: «отвязываю; раскрываю; исполняю; уплачиваю», а ещё: «разъясняю, решаю, разгадываю». От глагола «defendo, ěre» («отражаю, отвращаю, даю отпор; защищаю») образуется причастие настоящего времени действительного залога (Part. praes. activi) – «defendens, ntis». Даже странно, что здесь фигурирует русский «учитель», а не латинский «magister, tri m». В общем, заметно, сколь дико выглядела во второй половине XVIII в. этакая латинизированная сентенция, предвосхищающая хрестоматийное смешение французского с нижегородским. Французско-нижегородское наречие будет в ходу позже, в начале XIX в. Кроме того, по-французски станут щебетать светские щёголи, а тяжеловесная церковно-научная латынь – удел самых образованных людей из сословия духовного. …В сохранившихся в архиве записях протоиерея из г. Слободского Вятской губернии Иоанна Куртиева, которые он делал в середине XIX в., есть отголоски его семинаристской греко-латинской образованности: несколько латинских крылатых выражений, «Hymnus de vanitate mundi» («Гимн о суете мира») в одиннадцать строф – всё это с переводами на русский. Среди прочего, там имеются записи: «Primo lettere adde tripidem, tripide rotundum et vira verte. Выйдет Amo te»; «Mitto tibi navem, prora puppique carentem». И вслед за последней фразой, в скобках, – так: «Ave!»[11]. Это – старинные латинские ученические шуточки-шарады. …Выходец из вятской священнической семьи Савватий Иванович Сычугов (1841–1902), который учился в Вятке в духовном училище и затем в семинарии, припоминая под конец жизни юные годы, писал о том, что такое обучение совсем немного дало ему. Только древние языки он знал хорошо. Ещё до поступления в училище их основы преподал Сычугову дедушка-священник. Да и после Сычугов усердно осваивал древние языки: «Изучение их было хорошей гимнастикой для моего ума. Дело в том, что учебники этих языков были безобразны; учителя никаких объяснений не делали, и потому мне волей-неволей приходилось при переводах строить разные комбинации и даже придумывать правила, а такая работа, обязывающая доходить до всего своим умом, развивала мой мозг. И здесь опять-таки бурса неповинна в моём развитии; если она и влияла на него, то только отрицательно». Сычугов, закончивший впоследствии Московский университет и служивший земским врачом в вятском селе Великорецком, сожалел о том, что не продолжил совершенствование древних языков: «Должно быть, действительно я хорошо знал греческий язык, если знаниями, приобретёнными в училище, я удивил специалиста тем, что, помимо правильного разбора, я мог свободно переводить хрестоматию, правда очень лёгкую, почти без помощи словаря. А ведь за 6 лет семинарского учения, кажется, и книги греческой не брал в руки. И теперь я ещё жалею, что бросил древние языки; если б я хотя изредка штудировал их, то теперь – в одиночестве – наслаждался бы чтением в подлиннике Гомера, Софокла, Тацита, Виргилия и др. классиков»[12]. …А вот пушкинский Онегин, как известно, латынь знал плоховато – так, всякие мелочи и обрывки в памяти у него застряли: «два стиха» из поэмы жившего на рубеже нашей эры великого римского поэта Публия Вергилия Марона «Энеида», обычная концовка писем «vale!» («будь здоров!») и т. п. Мог он ещё «эпиграфы разбирать» (имеются в виду старинные надписи на памятниках, зданиях и гробницах) да поддержать беседу об античном поэте – например, о римском сатирике I–II вв. Дециме Юнии Ювенале. Почему же латынь тогда, в начале XIX в., вышла из моды, если на протяжении целого ещё столетия латынь вместе с греческим будет основой всякого серьёзного образования в России?.. Да просто тогда считалось, что латынь – не дворянское дело. Её, к примеру, знали воспитанники духовных семинарий, то есть священники, учёные, но не дворяне. В 1755 г. был учреждён Московский университет, состоявший из трёх факультетов – юридического, философского и медицинского. Профессорами поначалу были преимущественно иностранцы, да и преподавание происходило большей частью на латинском языке. Профессором элоквенции (то есть красноречия; от латинского «eloquentia, ae f») на философском факультете стал Николай Никитич Поповский (1730–1760). При открытии университета он выступил с речью, начинавший его курс лекций по философии. Поповский говорил о том, что преподавать философию возможно и на русском языке: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснять было бы невозможно». Забавно, что сама эта речь звучала на латыни. Профессор Поповский и впоследствии не раз предлагал читать философию по-русски хотя бы для части студентов. Профессора-иностранцы признавали, что это могло бы быть полезно для малого числа учащихся, однако опасались, что такое послабление увлечёт и остальных, отклонит их от изучения латинского языка. А именно изучение латыни, утверждали они, и есть «главная цель учреждения Университета и основание всех наук»[13]. Затем и императрица Екатерина II в своём указе от 19 ноября 1767 г. объявила, что «пристойнее было бы в Университете читать лекции на русском языке». Так вот, поначалу на медицинский факультет молодые дворяне поступать не спешили: там уже с самого начала требовалось приличное знание латинского языка, а дворяне, до того учившиеся в пансионах или же дома, латыни обычно не знали. И тогда пришлось предлагать обучение на медицинском факультете желающим семинаристам – ведь в духовных семинариях с этим дело обстояло лучше. Как писал Ю. М. Лотман, «латынь для разночинной интеллигенции XVIII – начала XIX в. была таким же языком-паролем, как французский для дворянства». Правда, уже начинали осознавать роль латыни и вообще изучения античности для формирования чувства гражданственности. Интересно, что в последней трети XVIII в. чиновники И. К. Стрелецкий и И. Н. Буйда написали антиправительственную прокламацию как раз по-латыни, очевидно, обращаясь именно к образованным разночинцам. Мало-помалу и стремившиеся в настоящему образованию дворяне тоже начали изучать латынь. Писатель и учёный, специалист по русской старине Андрей Сергеевич Кайсаров (1782–1813), приехав в начале XIX в. в Геттингенский университет, прежде всего приступил к занятиям латинским языком, а в 1806 г. уже защищал свою написанную на латыни диссертацию «Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis» (то есть «О необходимости освобождения рабов в России»). В русской дворянской среде 1800-х гг. была мода на воспитателей-иезуитов, что также способствовало усвоению латыни молодыми дворянами. Кстати, Онегин учился под руководством аббата-католика, и, по мнению Лотмана, просто не мог не усвоить латынь весьма основательно. Так что Пушкин, принижая латинскую образованность своего героя, подавал это явно иронически. В 1815 г. иезуитские колледжи были закрыты, и латынь перестала быть частью «светского» образования – согласно Пушкину, вышла из моды. К 1820-м гг. знание латыни свидетельствовало, что человек получил «серьёзное», а не «светское» образование. Сам Пушкин, как и многие его друзья (прежде всего те, что были близки к декабристам), хорошо знал латынь и даже мог читать малоизвестных античных авторов. А вот император Николай I латынь, английский и немецкий, равно как и «науки политические», знал плохо[14]. …«В январе 1804 г. 9-летний великий князь Николай Павлович начал изучать немецкий язык, который ему преподавал профессиональный учитель Аделунг. Этот же педагог преподавал великому князю латинский и греческий языки. Древние языки в то время были обязательной частью добротного образования. Но в аристократической среде изучение латыни и греческого языков широко не распространилось. Эти языки введены в образовательную программу Николая Павловича по настоянию матери – императрицы Марии Фёдоровны. С изучением латыни и греческого у Николая I связаны самые мрачные воспоминания»[15]. «…Из плана обучения Александра Николаевича, подготовленного В. А. Жуковским в 1828 г., Николай I лично исключил латинский язык. То было эхо детского негативного опыта Николая I, буквально возненавидевшего латынь. В начале 1850-х гг. Николай Павлович прикажет передать все фолианты на латинском языке из библиотеки Императорского Эрмитажа в Императорскую публичную библиотеку, объяснив это своими мрачными детскими воспоминаниями об изучении латыни. Латинский язык не преподавался никому из детей Николая I. Впоследствии эта традиция сохранялась для всех последующих российских монархов. В 1856 г. над старшим сыном Александра II “нависла угроза” изучения древних языков, поскольку дипломат князь А. М. Горчаков в составленной им программе преподавания высказался за возобновление их преподавания: “Мёртвые языки – школа слога, вкуса и логики. …С русской национальной точки зрения следовало бы отдать предпочтение греческому языку. Но язык латинский легче и развивается логичнее. Если наследник будет учиться латыни, то греческому языку можно было бы научить одного из его братьев”. Однако в 1857 г. мысль об обучении великих князей одному из классических языков совершенно оставляется. И хотя во второй половине XIX в. в классических гимназиях мальчикам вдалбливали латынь и греческий, царских детей от этого на некоторое время избавили. Начиная с Владимира, младшего брата Александра III, преподавание латинского языка для царских детей возобновляется. К. В. Кедров преподавал латинский язык великим князьям Владимиру, Алексею, Сергею и Павлу Александровичам. Мемуарист свидетельствует, что Александр II сам выступил инициатором возобновления изучения латыни, полагая её научной основой всякого языкознания»[16]. …Известный русский поэт Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878) так вспоминал свои занятия в молодости: «…В разные времена первой молодости моей изучал я и латинский язык, римскую литературу, особенно Овидия и Горация. В старых бумагах моих отыскиваю целые страницы, исписанные мною на латинском языке. Но латынь не далась мне, не укрепилась за мною, как вообще не укрепляется она за нами, русскими. У нас нет ни исторической, ни народной почвы для латынства. В нас на севере нет ничего латынского, ничего того, что людям прирожденно на западе и на юге. Разумеется, не протестую против изучения классических языков; хочу только примером своим отметить, что, за весьма редкими исключениями, учение это легко испаряется из нас, потому что оно мало применимо к действительности»[17]. …Иван Александрович Гончаров в 1831–1834 гг. учился на словесном отделении Московского университета. В 1870-х гг. он сделал наброски воспоминаний о своих студенческих годах. За несколько месяцев до вступительных экзаменов вышло указание о необходимости сдавать при поступлении на словесное отделение греческий язык. Гончаров писал: «Я знал порядочно по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без последнего языка нельзя было поступать ни в какой факультет. Я переводил à livre ouvert («по открытой книге», то есть без подготовки. – В. К.) Корнелия Непота, по которому все учились… а тут вдруг понадобился греческий язык!» За остававшееся время Гончаров немного поднаторел и в греческом. Оказалось, что и на экзамене спрашивали не строго. В общем, он поступил. Гончаров в связи с этим вспоминал: «Не учиться по-латыни считалось ещё ересью даже в обществе». «В обществе» – то есть в высшем свете. Когда Гончаров писал это, в России шли дискуссии о том, нужно ли изучать классические языки и в каком объёме. И дальше у него: «Бывало, претенденты на высшее образование притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческом же языке в обществе не поминал никто: его как будто не было на свете. Знали, что учат по-гречески в духовных училищах, что есть кафедра этого языка в университете – и только». По словам Гончарова, «не пройти, учась в университете, через эти классические ворота было нельзя: связь древнего мира с новым поддерживалась этим дряхлым мостиком…»[18]. Другой знаменитый литератор – Афанасий Афанасьевич Фет – с начала 1835 по конец 1837 г. получал среднее образование в немецком пансионе в г. Верро. Он вспоминал: «Как ни плох я был в латинской грамматике, тем не менее, приготовившись, с грехом пополам следил за ежедневным чтением Цезаря…». В итоге, «я учительской конференцией с директором во главе был переведён ввиду успехов моих в математике и в чтении Цезаря во второй класс». В конце очередного семестра, перед каникулами и переводом лучших учеников в следующий класс, директор Крюммер выступал с напутственной речью. Спустя много лет Фет пересказал смысл одной такой речи – причём, видимо, по примеру античных историков, перелагая от лица того, кто её некогда произносил. Крюммер, дескать, говорил: «Мои милые (meine lieben!), родители ваши поместили вас сюда в надежде, что в своей школе я снабжу вас сведениями, необходимыми для образованного человека». Директор далее стал растолковывать, что «помимо всяких ваших трудов влить вам в голову надлежащие сведения» – этого недостаточно. «…Так как главное значение школы в моих глазах не те или другие сведения, которые сами по себе большею частью являются совершенно бесполезными в жизни, а в привычке к умственному труду и способности в разнообразии жизненных явлений останавливаться на самых в данном отношении существенных». По его словам, «такой умственной зрелости возможно достигнуть только постепенным упражнением в логическом понимании вещей…» И вот кульминация речи: директор утверждал, что, к примеру, история и география – те «составляют только богатство памяти, тогда как упражнять разум для будущего правильного мышления можно только над математикой и древними языками». И эта программа воплощалась. «Латинских уроков Гульч давал нам ежедневно два: утром мы читали Ливия и через день переводили изустно с немецкого на латинский, а после обеда, с половины пятого до половины шестого, неизменно читали Энеиду, из которой, в случае плохой подготовки, приходилось учить стихи наизусть». И далее: «Со второго класса прибавлялся ежедневно час для греческого языка…». Правда, Фет находил в себе «неспособность к языкам» и укорял себя за плохое понимание греческого. Кроме того, он был подвержен обычной школярской оплошности, когда поначалу самые основы предмета, вроде алфавита и основных правил, толком не усвоишь – и после уже всё прочее идёт поверхностно, приблизительно, наперекосяк. «Так, знакомившись с греческим алфавитом по соображению с русским, в котором не оказывается буквы “кси”, я по сей день, ища в лексиконе, затрудняюсь отыскивать место этого беглеца»[19]. Много лет спустя, в 1880–1890-х гг., Фет перевёл стихами на русский язык множество античных поэтов – но только римских, с латыни. …Писатель Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) учился в Дерпте (Юрьеве, ныне – Тарту), где находился устроенный на немецкий лад университет. Почти все преподаватели набирались из немцев, да и большинство студентов тоже. Боборыкин вспоминал: «Перед принятием меня в студенты Дерптского университета возник было вопрос: не понадобится ли сдавать дополнительный экзамен из греческого? Тогда его требовали от окончивших курс в остзейских гимназиях. Перед нашим поступлением будущий товарищ мой Л–ский (впоследствии профессор в Киеве), перейдя из Киевского университета на медицинский факультет, должен был сдать экзамен по-гречески. То же требовалось и с натуралистов, но мы… почему-то избегли этого. Тогда это считалось крайне отяготительным и чем-то глубоко ненужным и схоластическим. А впоследствии я не раз жалел о том, что меня не заставили засесть за греческий. И уже больше тридцати лет спустя я – motu proprio (по собственному побуждению. – В. К.) – в Москве надумал дополнить своё “словесное” образование и принялся за греческую грамоту под руководством одной девицы – “фишерки” (девица окончила женскую классическую гимназию Софьи Николаевны Фишер в Москве. – В. К.), что было характерным штрихом в последнее пятнадцатилетие XIX века для тогдашней Москвы»[20]. И главный герой романа Боборыкина «В путь-дорогу!..» тоже, как и автор, оканчивал университет в Дерпте. Вот в Дерптском университете в первой половине 1860-х гг., в присутствии публики, проходит диссертационный диспут. Там звучат речи и на латыни, и на немецком. «Все диспуты – большею частию медицинские – на каких он бывал в этой зале, отличались крайней бесцветностью; оппоненты бормочут по-латыни, докторант отвечает – mihi videtur и concedo tibi, среди всеобщей страшнейшей скуки и зевоты». А товарищ главного героя думал после окончания университета стать лекарем, хотя ему советовали писать диссертацию и становиться доктором медицины. Но тот отвечал: «На лекаря у меня пороху хватит, а на доктора – куда! Да и возни, брат, меньше, пойдут эти диссертации, да по-латыни ещё нужно учиться, шут их побери совсем». Конечно, этот студент-медик знал латинские азы, но для звания доктора нужно было владеть латынью в совершенстве[21]. …Может показаться, что в XIX в. греко-латинская премудрость в России была на высоте. По сравнению с советским периодом и современностью – конечно. Но вот как смотрел на развитие науки классической филологии современник – молодой филолог-классик, двадцати с небольшим лет. Это Василий Иванович Модестов (1839–1907), который затем был профессором различных российских учебных заведений. А тогда, находясь на стажировке в Германии, он утверждал: «…Мы признаём за неоспоримое, что в главе гуманитарных наук стоит классическая филология; следовательно, по нашему мнению, печальное положение этой отрасли знания у нас достойно серьёзного внимания»[22]. И в следующей своей статье на эту же тему Модестов писал: «Ближайший результат наблюдения за филологическим развитием в России есть тот, что мы напрасно искали бы этой науки в нашем отечестве. Классической филологии в России совершенно не существует, несмотря на преподавание древних языков в гимназиях и семинариях, несмотря на существование кафедр филологии (большею частью не занятых) в университетах. Мы не только не находим какой либо учёной систематической разработки этой науки, но даже напрасно стали бы искать сколько-нибудь приличных к занятию ею средств, имеющих русское происхождение. У нас нет не только этого, что называется греческой и римской историей, древностями того и другого народа, историями древних литератур, мифологией, археологией, – нет у нас даже грамматик и лексиконов. В гимназиях древние языки преподаются по немецким учебникам грамматики, составленным Кюнером, по учебникам, написанным для другого народа, имеющего особую систему склонений, спряжений и синтаксиса. Каким образом происходит то, что в гимназиях получается некоторое знакомство с древними языками, это едва понятно. Оно, разумеется, получается не из грамматик, а из устных изъяснений учителей и посредством такого ничтожного по объёму чтения авторов, какое существует в наших гимназиях. Далее у нас нет, можно сказать, ни одного издания какого-нибудь древнего автора, сделанного в России и для русской публики. Каким образом это совместимо с существованием кафедр древних языков, тоже задача. У нас и слухом не слыхать какого-нибудь реального лексикона по классической древности, без которого в настоящее время нельзя сесть ни за какую филологическую книгу. Одним словом у нас ничего нет, что бы делало существование классической филологии в России не призрачным. Есть, правда, несколько статей, касающихся древности (в большинстве принадлежащих г. Благовещенскому), но их ничтожное число и совершенно отдельное, бессвязное существование служит причиной, по которой они не произвели заметного влияния»[23]. А в предыдущей части того же журнала поместили статью другого молодого учёного – литературоведа Ивана Петровича Хрущова (1841–1904). Он писал, что «историко-филологический факультет почти во всех университетах наших крайне беден числом своих слушателей». В обществе укрепилось мнение, будто изучение древнего мира и древних языков – это мертвечина, бесполезная и скучная. «Виною такого распространившегося у нас мнения – господство безжизненной схоластики в университетском преподавании, плохая подготовка в гимназиях и, наконец, нестройность уклада историко-филологического факультета, его бедность и ложность». Хрущов утверждал: «Что же касается до предметов классической древности, то в самом способе их университетского преподавания и кроется причина того, что эти предметы не возбуждают к себе особенного сочувствия; на первых двух курсах профессоры стараются выучить слушателей языку греческому или латинскому, в чём крайне нуждаются плохо подготовленные слушатели. Рядом с механической работой идёт какое-то педантическое преследование кодексов и изданий классиков и лингвистические тонкости. Стало быть, на первых двух курсах метод преподавания лингвистический и притом школярный. Трудно любить науку древности и заниматься терпеливо языком, тогда как самая ярко-блещущая картина древнего мира ещё покрыта завесой, когда неизвестны самые лучшие эпохи, не знакомы самые лучшие авторы. К этому надо заметить, что не совсем удачно выбирают для чтения авторов и самые сочинения: так три года назад в Московском университете было положено непременно читать De officiis и Энеиду на первых двух курсах»[24]. Во второй половине XIX в. обучение в средней и высшей школе в России, в целом, становилось всё лучше. При этом, с развитием гимназий и университетов, духовные учебные заведения утратили значение основных учебных центров. Классические же языки (вместе с математикой) стали основой гимназического образования. Это, безусловно, способствовало расцвету русской культуры и науки – вплоть до Октябрьской революции.
[1] Хавен, Педер фон. Путешествие в Россию // Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. С. 347. [2] Живов В. Из церковной истории времён Петра Великого: исследования и материалы. М., 2004. С. 42, 68. [3] Духовный регламент Петра Первого: с прибавлением «О правилах причта церковного и монашеского». М., 1897. С. 49. [4] См.: Любжин А. И. Латинский язык в Харьковском коллегиуме (1722–1830) // Древний мир и мы. Классическое наследие в Европе и России: альманах. СПб., 2003. Вып. 3 / отв. ред. А. К. Гаврилов. С. 147–153. [5] См.: Флоровский Г., прот. Встреча с Западом [глава из книги «Пути русского богословия»] // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 3: XVII – начало XVIII века / сост. А. Д. Кошелев. С. 280. [6] Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. М., 1995. С. 263. [7] Цит. по: Митрофанов А. А. Образ России в политической публицистике Франции периода якобинской диктатуры: (на примере «Путешествия в Россию» П.-Н. Шантро) // Новая и новейшая история: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2008. Вып. 23 / под ред. В. С. Мирзеханова. С. 59. [8] Архангельский А. Духовное образование и духовная литература в России при Петре Великом. Казань, 1883. С. 16, 39. [9] Благовещенский А. История Казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII–XIX стол. Казань, 1881. С. 62. [10] Цит. по: Флоровский Г., прот. Петербургский переворот [глава из книги «Пути русского богословия»] // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 4: XVIII – начало XIX века / сост. А. Д. Кошелев. С. 393. [11] Государственный архив Кировской области. Ф. 170. Оп. 1. Д. 424. Л. 70. [12] Сычугов С. И. Записки бурсака. М.; Л., 1933. С. 162, 165. [13] Феофанов А. Классическая словесность в Московском Университете в 1755–1825 гг. // Новый Гермес. 2008. Вып. 2. С. 28–29. [14] См.: Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 554–555. [15] Зимин И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора: вторая четверть XIX – начало XX в.: взрослый мир императорских резиденций. М., 2010. С. 480. [16] Там же. С. 485–486. [17] Вяземский П. А. Автобиографическое введение // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1878. Т. 1. С. LIX. [18] Гончаров И. А. Воспоминания // Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1980. Т. 7: Очерки. Автобиография. Воспоминания. «Необыкновенная история». С. 231, 233–234. [19] Фет А. Воспоминания. М., 1983. С. 110, 111, 120–121, 114, 87–88. [20] Боборыкин П. Д. Воспоминания: в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 138. [21] Его же. В путь-дорогу!.. 1885. Т. 3. (Боборыкин П. Д. Сочинения. Т. 3). С. 363–364, 398. [22] Модестов В. О значении классической филологии в настоящее время и о преподавании древних языков // Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Ч. 114. Ч. неофиц. Отд. 1. С. 43. [23] Его же. Что такое классическая филология? // Там же. 1863. Ч. 117. Отд. 3. С. 480–481. [24] Хрущов И. Мысли по поводу преподавания древней истории в наших столичных университетах // Там же. 1862. Ч. 116. Ч. неофиц. Отд. 1. С. 244–249.
|